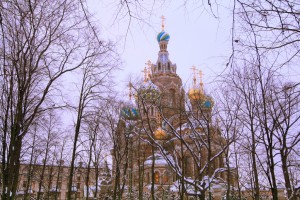1. В продолжение большей части XX века первые лица советского/российского государства говорили по-русски с акцентом либо чужим (Сталин), либо провинциальным (Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин), а некоторые из них страдали дефектами речи (Ленин, Брежнев). Владимир Путин — первый за 100 лет верховный правитель страны, речь которого является фонетически и диалектически чистой. Склонность президента к устным импровизациям часто имеет яркий эффект: его высказывания ex tempore состоят из грамматически правильно составленных предложений и даже абзацев и изобилуют чеканными мемами, что выгодно отличает его от большинства других российских общественных деятелей, в том числе представителей литературного сословия. Путинский идиолект, с его сочетанием четкого петербургского выговора, вокабуляром университетского выпускника и элементами уличного и даже уголовного жаргона, представляет собой уникальный пример полит-сказа. Риторика президента эффективна в рамках политического пространства, в котором он обретается, хотя (в переводе) может вызвать недоумение у иностранной аудитории, особенно в странах с представительной формой правления и критериями политической корректности. Вследствие оригинальности путинского идиолекта и сопутствующего ему языка президентского тела, иногда полуобнаженного, общественные фигуры, пытающиеся подражать первому или второму, могут произвести невыгодное презентационное впечатление: например, Дмитрий Медведев. Идиолект, как и торс, есть атрибут одной только личности. С другой стороны, нынешний российский государственный дискурс несет на себя ощутимый отпечаток стиля устной речи президента: см. пресс-релизы МИДа России или отдельные высказывания главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
2. В 2014 году фраза «русский мир» стала частью лексикона Путина и, следственно, государственного дискурса. Она была озвучена не ex tempore, а ipso facto, то есть в процессе осуществления нового геополитического проекта «Крым и Новороссия».
3. С середины XIX века получила распространение практика сопоставления России с Америкой и поиска общих для обеих стран и культур определяющих качеств. Следуя за известным высказыванием Алексиса де Токвиля о блестящем будущем, которое ожидает Америку и Россию, Иван Киреевский писал: «Из всего просвещенного человечества два народа не участвуют во всеобщем усыплении: два народа, молодые, свежие, цветут надеждою — это Соединенные Штаты и наше отечество». В перспективе XIX века Киреевский был прав; в перспективе XX века и в отношении России он ошибся. Авторы формул типа Россия = Америка почти всегда грешат отсутствием конкретных познаний об одной из этих двух стран (иногда обеих). Заметим также, что те немногие наблюдатели, которые были в равной мере причастны к культурным традициям России и Америки, например Владимир Набоков, были скорее склонны говорить не о сходстве, а о различии между ними.
4. Тем не менее, параллели, совпадения и тождественности присутствуют на разных уровнях национальной идентичности и внешней политики двух великих держав (в геополитическом смысле Россия стала таковой в царствование Петра I, а Соединенные Штаты — с середины XIX века). Так, в разные периоды своей истории правящие элиты России и Америки воздвигали концептуальные национальные крепости, которым, по официальной версии, угрожала осада со стороны внешнего врага и подрывная деятельность внутренних предателей: см. американский изоляционизм в период между двумя мировыми войнами или «социализм в одной отдельно взятой стране» Сталина. «Война против терроризма», начатая администрацией президента Буша-младшего после атак 11 сентября 2001 года, привела не только к крупномасштабной интервенции США на Ближнем и Среднем Востоке, но и к созданию нарратива об уютном хоумленде, оскверненном коварными и жестокими чужаками-фанатиками и их пособниками внутри страны. Основанное в 2002 году министерство внутренней безопасности (Department of Homeland Security) самим своим наименованием подтвердило этот нарратив, эмоциональное воздействие которого, впрочем, вскоре иссякло. Подобным же образом провозглашение Русского мира есть попытка культивировать чувство общественной солидарности и уюта (это ключ!) на территории России, гарантом которых будет сильная и мудрая власть, готовая к решительным действиям внутри страны и за ее пределами ради интересов не только и не столько политических.
5. Что же касается интеллектуального обрамления этой концепции, то отсылаю читателей к высказываниям Патриарха Кирилла в телевизионной программе «Слово пастыря» от 6 сентября 2014 года. Тогда предстоятель РПЦ сообщил зрителям, что «к этому миру могут принадлежать люди, которые вообще не относятся к славянскому миру, но которые восприняли культурную и духовную составляющую этого мира как свою собственную». Однако «говорить на русском языке или понимать русский язык — не единственное условие принадлежности к Русскому миру». Итак, принцип ici on parle russe не является тут определяющим. Впрочем, в той же передаче патриарх назвал Россию «современной демократической страной европейского типа».